Жорж Брассенс, лекция вторая*
Сквернослов. Высокая поэзия и ненормативная лексика
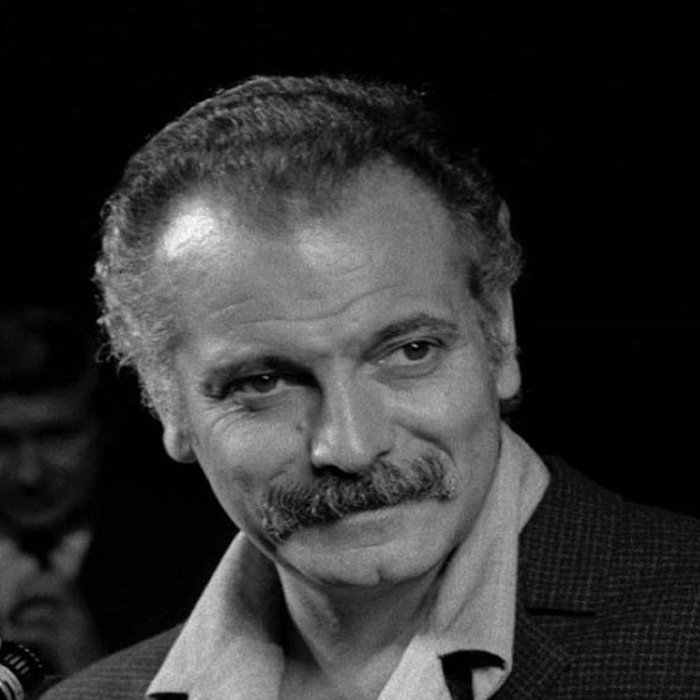
Сегодня мы продолжим рассказ о творчестве великого французского шансонье Жоржа Брассенса. Между прочим, слово «шансонье» по всеобщей безграмотности нашей употребляется у нас примерно так же неправильно, как и само слово «шансон». То, что мы называем красивым словом «шансонье», у французов обычно выражается довольно громоздкой конструкцией
На прошлом вечере мы говорили о песнях первых четырех виниловых альбомов Жоржа Брассенса. Сегодня речь пойдет о второй четверке. Это альбомы, вышедшие с 1958 по 1964 год. Здесь мы видим уже совершенно зрелого Брассенса, певца и поэта в расцвете творческих сил и таланта. Он много выступает, много сочиняет. Альбомы — один лучше другого — выходят почти каждый год. А надо сказать, что эти годы — золотой век французской песни. В самом соку такие мастера, как Жак Брель, Ги Беар, Шарль Азнавур, Лео Ферре, Серж Гейнсбур и очень многие другие — я могу легко назвать несколько десятков блестящих имен. Наконец, Эдит Пиаф умерла только в 1963 году. И даже на этом великолепном фоне Брассенс безоговорочно и с большим отрывом уходит вперед. Его первенство и ведущую роль признают почти все. На одну доску с ним можно поставить разве что другого гиганта — Жака Бреля.
С течением времени песни Брассенса становились сложнее и длиннее, и поэтому мы сегодня, к глубокому сожалению, успеем послушать их меньше, чем хотелось бы. И это вдвойне досадно, потому что на этих четырех альбомах столько шедевров, что слушать хочется едва ли не все песни подряд. Выход у нас только один — свести мои комментарии и всякую болтовню к необходимому минимуму.
И начнем мы с песни, которой открывается пятый альбом. Она называется «Старый Леон». Это песня об уличном аккордеонисте из предместий Парижа. Вообще французская песня чаще всего ассоциируется со звучанием аккордеона, и среди французских аккордеонистов были настоящие виртуозы своего дела — к примеру, знаменитый Марсель Аззола, который вполне достоин отдельного вечера. Причем надо сказать, что французский аккордеон, на котором и сейчас играют уличные музыканты, выглядит не совсем так, как обычный аккордеон в нашем понимании. Это так называемый кнопочный аккордеон, по внешнему виду больше похожий на наш баян, только звучит он немного
Песня «Старый Леон», как и многие другие песни Брассенса, написана в форме вирелэ. Это шестистрочная строфа старофранцузской поэзии. Она разбивается на два трехстишия, в каждом из которых первые две строки рифмуются, а третья, как правило укороченная строка, рифмуется с шестой. На вирелэ похоже, например, пушкинское:
А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — бог их прости! —
От пятидесяти
На сто.
Эта форма (особенно при использовании коротких размеров) требует известной виртуозности и подразумевает всевозможные составные рифмы, анжамбеманы и прочие поэтические кунштюки, на которые Брассенс был так горазд и которые так осложняют и без того нелегкую работу переводчика. Брассенс использовал эту поэтическую форму очень часто, и сегодня мы услышим несколько песен, написанных в форме вирелэ.
Итак, «Старый Леон» (подстрочник Натальи Меерович).
Вот уж пятнадцать печальных лет минуло с тех пор, как ты, старина Леон, отбыл в рай для аккордеонистов, с тех пор как ты налегке отправился поглядеть, как обстоят дела с танцульками и пьянками там, у всевышнего. Вот уж пятнадцать лет, как, закинув за спину свой инструмент, ты ушел развлекать потустороннее общество. Прости нас, ради Святой Цецилии (это одна из самых любимых католических святых — покровительница музыки и музыкантов) за то, что здесь мы не могли оценить по достоинству твое искусство.
Аккордеонистов не принято хоронить в Пантеоне, хотя,
С тех пор, дружище, как ты решил делать карьеру на небесах, много воды утекло под нашими мостами! Славных ребят с улицы Ванв одного за другим уносило по воле волн. Но ни один не забыл о прошлом, и у всех этих простых парней щемит сердце, едва они услышат звук аккордеона.
Как там с погодой у этих аристократов за земным пределом? Не забыли ли тамошние музыканты, как звучит «ля»? А местное винишко — не лучше ли на вкус, когда его подают прямо из виноградников Господа Бога? А если там
1. Le vieux Leon
На нашем первом вечере я, можно сказать, голословно утверждал, что Брассенс нередко употреблял в своих песнях ненормативную лексику, но таких песен мы в прошлый раз почти не слушали. И вот этот долгожданный момент настал. Скажу сразу, я терпеть не могу, когда в песнях, да и не только в песнях, тупо и бессмысленно матерятся, а примеров этому мы в нынешней, с позволения сказать, культуре имеем во множестве. На мой взгляд, обсценная лексика даже в нашей стране, где бОльшая часть населения не может двух слов связать не матюгнувшись, остается тем не менее весьма сильным и в
Брассенс в этом деле придерживался примерно таких же взглядов, и для него употребление ненормативной лексики никогда не было самоцелью. Скажу больше, мне кажется, что у него не было и осознанной задачи эпатировать слушателя — для него это просто проявление раблезианского темперамента и один из элементов литературной игры, которая всегда оставалась едва ли не самым главным элементом его поэтики. Хотя в песнях он лукаво утверждал, что употребляет нецензурные выражения исключительно ради дешевой популярности, в угоду низким вкусам публики. Впрочем, доля истины в этом есть. Знаю по своему концертному опыту, что часть публики всегда оживляется, когда с эстрады к месту или не к месту прозвучит нецензурное слово. Человеческая природа, увы, такова, что многим этого вполне достаточно, чтобы испытать своего рода катарсис.
И вот сейчас мы послушаем в моем переводе и исполнении отчасти программную песню Брассенса, которая называется «Сквернослов». До такой степени программную, что она дала название всему пятому альбому. Хотя, конечно, это несколько провокативная программность.
2. Сквернослов
Как мы уже говорили, Брассенс, мягко говоря, неприязненно относился к государственной власти, к служителям церкви, к обывателям и филистерам. Не слишком жаловал он и институт брака.
Всю жизнь он оставался упорным и неисправимым холостяком, и возможно, именно поэтому к вопросам семьи и брака относился по меньшей мере иронично. А может быть, и наоборот: он весьма иронично относился к вопросам семьи и брака, и именно поэтому оставался холостяком. В его песнях в соответствии с французской фольклорной, культурной и литературной традицией довольно часто речь идет о рогоносцах, неверных женах, любовниках, любовницах и даже о любовнике, который сетует на то, что его любовница изменяет ему с собственным мужем. Классический французский любовный треугольник он изучил и безумно смешно описал со всех трех сторон.
Ты, скромная супруга, сверчок домашнего очага, ты, что ничем не запятнала свой белоснежный свадебный наряд, ты, верная Пенелопа, не беспокоят ли тебя в твоем тихом счастье с добрым мужем всякие сомнительные мысли и мечты?
Склоняясь над шитьем в своем тихом уголке и поджидая с работы своего Улисса, не мечтала ли ты в эти грустные и пустые вечера о других небесах, не искала ли на них новых звезд?
Неужели ты ни разу не прислушалась к голосу мимолетной любви, который заставляет делать глупости, сажает ромашку на овощные грядки и запретный плод во фруктовый сад и путает все твои кружева?
Неужели ты никогда не мечтала встретить этого ангела, этого демона с луком в руке, который своими коварными стрелами оживляет плоть даже самых холодных статуй, колеблет их пьедестал, покушается на их добродетель и срывает с них фиговые листки?
Не думай, что Небеса будут судить тебя очень строго за то, что твое сердце вдруг забьется слишком часто. Это всеобщая вина, это простительный грех, это оборотная сторона медового месяца, это расплата Пенелопы.
3. Penelope
И раз уж речь зашла о женской верности и любовных треугольниках, то давайте послушаем песенку, где эта присноактуальная проблема рассматривается совсем с другой стороны. Сам Брассенс в интервью
«Для меня такого понятия, как „чужая жена“, не существует вообще. Женщина мужу не принадлежит. Или принадлежит в той мере, в какой согласна принадлежать.
Трудно сказать, до какой степени буквально Брассенс осуществлял эту теорию на практике, тем более что по складу своего характера он был ярко выраженным моногамом и очень верным человеком. Он всегда держал в строгом секрете свою личную жизнь, и о ней очень мало известно. Зато в песнях он подчеркнуто, хотя и не без иронии, изображал себя эдаким
Вот одна из таких песен. Это тоже мой перевод и мое исполнение.
4. Моя душечка
Вообще, как вы уже могли заметить, у Жоржа Брассенса не так много песен о любви. Если быть точным, то настоящих любовных песен, где он всерьез, что называется от первого лица, говорит о своих чувствах к женщине, у него от силы
Возможно, все это связано с одним эпизодом его ранней юности, когда он, только приехав в Париж, влюбился в
Одну такую песенку мы сейчас послушаем. Она называется «Гроза». Между прочим, по форме это опять вирелэ.
Не говорите мне о хорошей погоде. Хорошая погода мне отвратительна, от нее начинают ныть зубы. Лазурный небосвод приводит меня в бешенство, потому что самая большая любовь посетила меня в непогоду, когда бушевал Юпитер. Она буквально свалилась с грозового неба.
Ноябрьским вечером в жуткую непогоду, когда гром грохотал по крыше, как табун лошадей, и гремел, как артиллерийская канонада, вскочив с постели в одной ночной сорочке, моя соседка вломилась ко мне, умоляя о помощи.
«Я одна, мне страшно, помогите ради бога! Мой муж ушел на свою проклятую работу — несчастный, он всегда на улице в грозу. Это для него самое горячее время, потому что он представитель компании, продающей громоотводы».
Благословив имя Бенджамина Франклина, я заключил ее в свои коварные объятия, а любовь доделала остальное. О ты, что так рьяно распространяешь громоотводы, почему же ты не установил его над собственным домом? Трудно было сделать бОльшую ошибку.
Когда Юпитер умолк и убрался восвояси, красотка справилась с испугом и побежала домой сушить своего несчастного супруга, назначив мне свидание в день, когда разразится следующая гроза.
С той поры я, не опуская глаз, непрерывно глядел на небеса и следил за облаками. Я поджидал кучевые, лорнировал
Мой славный сосед в ту ночь сделал хороший бизнес: он продал столько своих полезных железяк, что стал миллионером и увез жену в дурацкий край, где не бывает дождя, где и грома никогда не слыхали.
Господи, сделай так, чтобы мои жалобы грозой прилетели в те сухие края. И пусть там льет дождь и грохочет гром, пусть они расскажут ей, что убийственная стрела любовной молнии, пронзив мне сердце, оставила в его глубине маленький цветок воспоминания о ней.
5. L’orage
А сейчас давайте послушаем одну из немногих действительно любовных песен. Хотя Жорж Брассенс, как я уже говорил, был неисправимым холостяком, в его жизни была одна долгая и вполне счастливая любовная история. Почти 35 лет он любил (и отнюдь не безответно) женщину по имени Жоа Хейманн. По происхождению она была эстонка или эстонская немка, и поэтому Брассенс ласково называл ее «пюпхен», что
Брассенс посвятил Пюпхен несколько прекрасных трогательных любовных посланий. Одно из них мы сейчас послушаем. Кстати, обратите внимание, что по мелодике и композиции эта песня очень напоминает русский романс. Она называется «Сатурн» (кстати, в прошлой песне про грозу, если вы обратили внимание, упоминался Юпитер, который в римской мифологии соответствует греческому
Этот бог молчалив и угрюм, он отслеживает ход времен. Он носит красивое имя Сатурн, но это очень неспокойный бог.
На своем безрадостном пути, он, чтобы хоть немного развлечься, везде, где может, сминает цветущие розы.
И сегодня, моя дорогая, тебе приходится расплачиваться за его игры, платя ему «соляной налог» крупицами соли в твоих волосах.
Осенние цветы тоже прекрасны — так говорят все поэты. И я сегодня любуюсь тобой и пишу тебе любовную записку, которая не лжет.
Мы еще с тобой, моя ненаглядная, сойдем в тенистый сад и будем гадать на ромашках в день бабьего лета.
Я храню в сердце твои прелести и забуду их только тогда, когда Сатурн высыплет весь песок из моих песочных часов. А эта юная писюшка, что сейчас рядом со мной, может одеваться и идти домой.
6. Saturne
Вы, наверно, подумали, что в этой песне Брассенсу аккомпанирует альт или виолончель? Так вот, это не альт и не виолончель. Это контрабас. И играет на нем — вернее, играл, потому что его, увы, тоже давно уже нет в живых, великолепный контрабасист Пьер Никола, который работал с Брассенсом с самого начала его карьеры. Впрочем, он играл не только с Брассенсом. Он играл с Пиаф, с Брелем и со многими другими знаменитыми французскими певцами. Но с Брассенсом он не просто играл, он был его ближайшим другом. Впервые они встретились еще в кабаре у Паташу. И с тех пор не разлучались до самой смерти Жоржа Брассенса и даже после нее — Пьер Никола принимал участие в записи всех посмертных альбомов Брассенса.
Его роль в песнях Брассенса не слишком заметна непрофессионалу, но именно контрабас несет на себе ритмическую, гармоническую, а иногда и (как в предыдущей песне) мелодическую функции. Он образует мягкую и упругую подушку, на которой держится ритм песни, создает пульсацию, дыхание и глубину общего звучания. И для этого, поверьте мне, нужно высочайшее мастерство и искусство.
Надо сказать, что в женщинах Брассенс ценил не только преходящие женские прелести и к чужим женам (особенно, если это касалось жен друзей) относился не только как к объектам сексуального домогательства. И мы сейчас послушаем очень симпатичную песенку на эту тему «Жена Гектора». В ней мы вновь сталкиваемся с мифологией. Как известно, жена Гектора Андромаха (хотя ее имя в песне не упоминается) считается воплощением идеала преданной и любящей жены. Однако Брассенс переворачивает мифологический сюжет с ног на голову, и оказывается, что жена Гектора предана не столько своему мужу, сколько его друзьям. Причем эта преданность носит исключительно дружеский характер.
Впрочем, некоторые комментаторы считают, что эта песня посвящена Жанне Планш, а под Гектором имеется в виду ее муж Марсель. То есть это та самая семейная пара, в чьем доме в тупике Флоримон Брассенс прожил больше 20 лет без газа, воды и электричества в окружении огромного количества кошек и собак; где он сочинял свои мелодии, выстукивая ритм по деревянному столу. Про Жанну Планш и ее роль в жизни Брассенса я рассказывал на нашем первом вечере. Причем в отличие от описанного в песне «Жена Гектора», Брассенса с Жанной, несмотря на более чем тридцатилетнюю разницу в возрасте, связывали, кажется, не только платонические отношения.
Кто прекрасней всех в нашем вавилонском столпотворении? Кто самая милая среди жен наших друзей? Кто, как заботливая нянька, всегда с нами в наших бедах? Кто эта добрая фея?
Припев: Это не жена Бертрана, не жена Гонтрана, не жена Памфила. Это не жена Фирмена, не жена Жермена и не жена Бенджамена. Это не жена Оноре, не жена Дезире, не жена Теофила. В еще меньшей степени это жена Нестора — это жена Гектора.
Когда мы щелкаем зубами от голода и в наших карманах дыра на дыре, кто помогает нам забыть наши беды, кто штопает наши носки и дыры в карманах?
Когда, черт возьми, нас ловят с поличным, и мы хлебаем баланду в Санте, кто та, что, словно верная собачонка, скромно ждет нас у ворот тюрьмы?
А когда один из нас умирает, когда ему приходит время освободить свой номер в отеле для других смертных, кто носится по всему Парижу, чтобы организовать по самой низкой цене роскошные похороны — не национального масштаба, но почти?
А когда приходит месяц май — веселое время влюбляться, и мы воем от неразделенных чувств, кому мы жалуемся и плачемся в жилетку и кто дарит нам свою нежность и оказывает финансовую поддержку?
Так не будем метать бисер наших сердец перед свиньями, не потеряем лицо перед жалкими куклами, не будем петь на языке богов ни для тупиц и сквалыг, ни для ничтожеств и умниц, ни для соплячек и матрон.
Ни для жены Бертрана, ни для жены Гонтрана, ни для жены Памфила, ни для жены Фирмена, ни для жены Жермена
7. La femme d’Hector
И теперь еще одна песня, посвященная Жанне Планш. Теперь уже напрямую, без мифологических иносказаний и двусмысленностей. Это одна из самых красивых песен Брассенса, она так и называется «Жанна». По содержанию, отчасти по мелодике, да и, собственно, по адресату она является как бы продолжением «Песни для овернца» и провозглашает те же, как сейчас сказали бы, гуманитарные ценности — сострадание, милосердие, готовность помочь нуждающемуся. То, что помимо литературной игры Брассенс ценил больше всего на свете. Когда Андре Сев в своем уже упоминавшемся сегодня интервью спросил Брассенса, встречал ли он людей исключительных, тот ответил: «Задавая этот вопрос, ты, наверное, имеешь в виду
Об этом же он говорит в песне «Жанна» (подстрочник Натальи Меерович).
У Жанны, у Жанны харчевня всегда открыта для тех, кто лишен очага и крова. Ее можно было бы назвать харчевней Господа Бога, последней, куда можно войти без стука, без пропуска, без приглашения.
К Жанне в любое время может зайти каждый, и, словно по волшебству, он становится членом семьи. Немножко потесниться — и в сердце ее всегда найдется для вас немного места.
Дом Жанны небогат и стол не ломится от яств, но хватит, чтобы утолить голод. Она так умеет подать хлеб, что он становится похожим на пирог, а воду не отличишь от вина.
Постояльцы Жанны платят ей, когда могут, поцелуем в лоб или в седую прядь, песенкой под гитару, а вместо чаевых дадут адрес потерянной кошки или заблудившейся собаки.
Ни в розах, ни в капусте Жанне не довелось найти ребенка, чтобы любить его, защищать от невзгод, прижимать к груди и вскормить своим молоком — других на ее месте это очень бы печалило.
Но сама Жанна не жалеет о том ни на грош: велика ли заслуга — иметь троих малышей, когда она мать всем на свете, и все дети земли, воды и неба — это ее дети…
8. Jeanne
Пожалуй, больше всех других, так сказать, социальных язв, Брассенс ненавидел войну и любого рода патриотизм. Он был, если так можно выразиться, воинствующим пацифистом. У него есть несколько песен на эту тему, где он буквально камня на камне не оставляет от патриотической риторики и военной романтики. Причем делал он это, не изображая кровавые ужасы и жестокость, а в своей манере — ведь смех уничтожает сильней любой патетики.
Одну такую песню мы сейчас послушаем. Она называется «Война 14–18 годов» и поется от лица эдакого кровожадного вояки и патриота, ветерана Первой мировой. Здесь надо иметь в виду вот какой момент. Первая мировая война в сознании французов и в их государственной мифологии — такая же «священная война» и священная корова, как для нас Великая Отечественная. Достаточно сказать, что за время этой войны Франция потеряла около 4 миллионов человек — десятую часть своего тогдашнего населения. Потери вполне сопоставимые с нашими потерями в Великой Отечественной.
И попробуйте теперь представить, что у
Если внимательно прислушаться к тексту этой песни, то можно заметить, что она представляет собой совершенно убийственную пародию на знаменитую песню нашего Булата Шалвовича Окуджавы «Я все равно паду на той, на той единственной гражданской», которой Брассенс, разумеется, не знал. Но перекличка идей весьма симптоматична.
Это снова мой перевод и исполнение.
9. La guerre de 14–18
Как я уже говорил, Брассенсу посчастливилось получить огромное признание при жизни. Причем таким известным у нас французским звездам как Адамо, Дассену, Мирей Матье, Патриции Каас по уровню популярности до Брассенса — как до неба. При этом, повторяю, Брассенс терпеть не мог все проявления звездности. Он буквально считанные разы появлялся на телеэкране, не участвовал в светских тусовках, ненавидел давать интервью, злился, когда его имя фигурировало в светской хронике. Кстати, в 1977 году еженедельник «Экспресс» проводил опрос, в котором предлагал читателям поставить себя на место различных замечательных людей Франции и всего мира и назвать того человека, на чьем месте они чувствовали бы себя самыми счастливыми. Так вот, на первом месте с 65 процентами голосов оказался именно Жорж Брассенс. Когда ему, уже смертельно больному, сообщали о результатах опроса, он отреагировал следующим образом: «Боже! Ну и кретины!»
Вообще, к журналистам и работникам массмедиа он относился с неприкрытой неприязнью. И его можно понять. О степени этой неприязни можно судить по песне, которую мы сейчас услышим. Это заглавная песня седьмого альбома. Она называется «Медные трубы». И надо сказать, что, хотя появилась песня 50 лет назад, она безо всяких скидок вполне применительна к миру нашего нынешнего
Медные трубы (перевод В. Зайцева)
Привыкнув жить вдали от людных магистралей,
Как некий персонаж старинных пасторалей,
И, не платя отнюдь с известности оброк,
На лаврах я почил и дрыхнул как сурок.
Но мудрые умы мне дали догадаться,
Что публике своей мне есть в чем отчитаться.
Покуда не совсем забыли мой портрет,
Повинен я раскрыть малейший свой секрет.
О, трубы!
О, звучная медь!
В гробу бы
Хотел вас иметь!
Должны ли раздевать бесстыдно догола мы
Себя во имя нужд и прихотей рекламы?
И надо ль, чтоб узнал не сват мой и не брат
Про то, где, как и с кем впадаю я в разврат?
Скажи я имена — и поползли бы слухи,
И сколько пенелоп попали б сразу в шлюхи,
И сколько бы друзей забыли мой порог,
И сколько бы мужей в меня вонзили рог!
Являться нагишом при всем честном народе
Мне тошно, ибо я застенчив по природе.
Лишь дамам и врачам — ручаюсь головой! —
Давал я изучать мой орган половой.
И мне ль, себя прельстив успеха сладким пленом,
На барабане дробь бить детородным членом?
И мне ль его нести, как тот святой сосуд,
Что в храмах к алтарю торжественно несут?
С одной из знатных дам в просторной зале спальной
Я часто утолял мой голод сексуальный,
И на меня с нее — кто б мог вообразить! —
Однажды переполз вульгарный паразит…
Ужели все теперь не ведаем стыда мы?
Рискну ль себе в корысть я честью светской дамы,
Трубя на всех углах, крича для всех ушей:
«С маркизы имярек я снял лобковых вшей!»
В следующем куплете речь идет о современнике Брассенса, известном в свое время священнике — отце Дювале, который, несмотря на свой сан, выступал на эстраде в качестве певца.
С известным всей стране кюре сладкоголосым
Давно в согласье мы по всем больным вопросам:
Я — грешный сукин сын, он — праведный отец.
Где скажет он «аминь!», там я скажу «пиздец!».
К лицу ль мне объявлять проворным репортерам,
Что и в мирских делах, как дух святой, востер он,
Что я его застал с моей Марго врасплох —
Он пел ей, а она в тонзуре била блох.
Но с кем же, черт возьми, делить мне надо ложе,
Чтоб славный этот факт в газетах был изложен?
Какая
Гитару заменить в объятьях мне должна?
Чтоб толки возбудить и отклик благодарный,
Кто даст мне напрокат свой бюст сверхпопулярный?
Кто мне предложит свой прославленный лобок,
Чтоб прессы интерес стал долог и глубок?
Разверз бы шире зев разнузданной трубы я,
Когда б, как все вокруг, подался в голубые,
И бедрами крутя, что юная мамзель,
Глазел по сторонам, пугливо как газель?
Но разве угодишь капризной нашей моде?
Уже содомский грех не так любим в народе.
Не всякий педераст идет за миллион —
Средь баловней судьбы их нынче легион!
Прилежно изучив все средства и приемы,
Которыми себе рекламу создаем мы,
Решил я: реноме — забота не моя,
За ним пусть кто другой гоняется, а я
Публично петь готов, когда желают слушать,
А нет — так для себя, иль вовсе бью баклуши.
И не платя отнюдь с известности оброк,
На лаврах вновь почил и дрыхну как сурок.
О, трубы!
О, звонкая медь!
В гробу бы
Хотел вас иметь!
10. Les trompettes de la renommee
А сейчас я хочу поставить вам еще одну очень красивую песню. Она называется «22 сентября», и в ней в очередной раз пересказывается традиционная для Брассенса любовная коллизия: ты ушла, сперва я очень грустил, а теперь перестал. Но на этот раз Брассенс прибегает к весьма любимому и не раз употреблявшемуся им (особенно в поздних вещах) художественному приему, для которого я придумал несколько громоздкое название «катартическое противочувствование». Суть его заключается в том, что в произведении на смысловом и вербальном уровне выдвигается и активно постулируется некий тезис, а художественное впечатление и само произведение приводят слушателя к диаметрально противоположным выводам. То есть получается своего рода развернутый антифразис, только не на уровне единичной лексемы, когда, к примеру, говорят «ну ты и умник!», имея в виду «ты дурак», а на уровне всего произведения в целом. Для наглядности в качестве примера можно привести «Вредные советы» Григория Остера. Разумеется, Брассенс не первым придумал этот прием — он довольно широко употреблялся и до него, и после. Однако Брассенс, что, в общем, для него не характерно, использует этот прием без иронического снижения — там, где он хочет говорить о серьезных и грустных вещах, но не хочет говорить о них прямым текстом.
Напомню, что 22 сентября — это день осеннего равноденствия. И еще: в песне упоминаются «улитки Превера». Речь идет об одном из любимых поэтов Брассенса — Жаке Превере и его знаменитом стихотворении «Песня об улитках, отправившихся на похороны». Ну и, разумеется, здесь мы снова встречаем упоминание мифологического персонажа — на это раз Икара. Ну и вы будете смеяться, но это опять вирелэ.
Я снова возьму на себя смелость показать эту песню в собственном переводе и исполнении.
11. 22 septembre
Вот я тут все время пою и читаю переводы, а между тем, кажется, еще ни разу не сказал о том, что все переводы из Брассенса можно считать таковыми только с большой натяжкой. Даже лучшие из них — это, в
Вот сейчас на примере одной из едва ли не самых сложных песен Брассенса я попробую это продемонстрировать. И хочу сразу принести благодарность находящемуся в зале замечательному переводчику Марку Гринбергу, без высококвалифицированной помощи которого я бы едва ли смог это сделать.
Итак, возьмем песню «Le quat’z’arts». Проблемы тут начинаются прямо с названия. Буквально оно переводится как «Бал четырех искусств», но для русского уха это ничего не говорит и выглядит полной бессмыслицей, если не знать, что речь идет о ежегодном карнавальном шествии, которое около ста лет каждую весну устраивали студенты парижской академии художеств. А каждую осень примерно такое же шествие устраивали парижские
«Bal des quat' z’Arts, который дается ежегодно художниками и их натурщицами в обществе их ближайших друзей и завершается половой оргией, выходит уже из сферы искусства, целиком относясь к действующему развращающе и подлежащему скорейшему прекращению половому цинизму».
Неудивительно, что в середине
Дружки в печали, подружки в слезах,
Ящичек для домино, в который сыграл покойник, завален цветами,
Все вокруг в траурных одеждах,
Фарс был, право, недурен, на него стоило посмотреть.
Академия художеств потрудилась на славу:
Погребение выглядело вполне настоящим. Браво!
Покойник не пел: «До чего хреново здесь!»
(Это цитата из старой песни
Ох, лежал покойник в морге
Из себя пригожий весь.
Говорил он, встав с подушки:
«До чего хреново здесь!»)
На этот раз он принял свою кончину близко к сердцу,
А ребята, которым поручили нести гроб,
Не подпевали:
(Тут опять идет цитата из студенческой песни медиков, которую можно вольно перевести «У покойника стоял выше подоконника!» Вдобавок в оригинале тут не
Академия художеств потрудилась на славу:
Труп выглядел абсолютно мертвым. Браво!
Там не было девиц в юбках, коротких, как балетные пачки,
(Дальше, во второй строке куплета, двойная игра слов, и я не уверен, что мне ее удастся доходчиво объяснить. В оригинале она выглядит как «Avec des fessées à claqué et des chapeaux pointus» — то есть «с задницами, которые хочется похлопать, и в островерхих шляпках». Но
А кисти надгробного балдахина доверили нести старым верным подругам,
И никто им не кричал: «Покажите, что у вас под юбками!»
Академия художеств потрудилась на славу:
Плакальщицы рыдали на совесть. Браво!
Кадило у священника было самое что ни есть настоящее,
А не такое, что похоже на болтающийся член,
И когда он запел «Из бездны воззвах»,
Хор мальчиков не отзозвался: «из пездны».
(Тут в оригинале с латинским выражением de profundis рифмуется непристойное слово «morpion», означающее, я извиняюсь, мандавошка, с присобаченным латинским окончанием «ibus».)
Академия художеств потрудилась на славу:
Священник приехал вовсе не из Камаре. Браво!
(Это отсылка к чрезвычайно непристойной бретонской народной песне «Кюре из Камаре»:
У кюре из Камаре яйца болтаются,
И когда тот садится,
Они забиваются ему в задницу
И у него встает
Я думаю, надо уже остановиться с комментариями, а то мы будем это делать до завтра. Я просто дочитаю подстрочник до конца, не вдаваясь глубоко в мелкие детали и частности.
Гроб опустили в могилу, и я был весьма разочарован,
Теперь шутка граничила с дурным вкусом,
Ибо покойник позволил себя засыпать землей
И даже не думал приподнять крышку и крикнуть: «
Академия художеств потрудилась на славу:
Гроб оказался без двойного дна. Браво!
Когда все было кончено, я сказал: «Господа,
А не пройтись ли нам теперь по борделям!»
Но они посмотрели на меня уныло,
А потом
Академия художеств потрудилась на славу:
Они сострадали, казалось, всем сердцем. Браво!
Когда я покинул этот мрачный кладбищенский огород,
За мной следом, не отставая, шел усопший,
Тень от его скромного могильного крестика
Покрывала собой едва ли не все вокруг.
Академия художеств потрудилась на славу:
Привидения тоже примешались к толпе студентов. Браво!
Я понял свою ошибку чуть позже,
Когда, раскуривая мою трубку пригласительным письмом на погребение,
Заметил, что мое имя, как имя добропорядочного буржуа,
Занимает в списке почетное место.
Академия художеств потрудилась на славу:
Оказывается, я близкий родственник покойного. Браво!
Прощайте, фальшивые кости, картонные черепа,
Больше мы не услышим похоронного марша, который играют на дудках!
Не пойдем танцевать на карнавал Академии художеств.
Теперь начались настоящие похороны.
Мы больше не пойдем танцевать на карнавал Академии художеств,
Пора, папаша, завязывать с этим делом — пора ехать с ярмарки.
А теперь послушайте, как это звучит.
12. Бал четырех искусств
А сейчас, чтобы перебить мрачное настроение, давайте послушаем еще одно вирелэ. Это веселая и отчасти фривольная песенка, которая называется «Ромашка». Если говорить о ее, как сейчас выражаются, контенте, то она относится к разряду так называемых антиклерикальных песен Брассенса. Хотя, на мой взгляд, ничего особо кощунственного в ней нет. И по сравнению с предыдущей песней нападки на священнослужителей здесь выглядят милой и невинной забавой, а если что и есть, то оно явно не на первых ролях. С первого взгляда ясно, что Брассенс здесь преследовал не столько идеологические, сколько
Поразительно, как виртуозно она написана — когда ее слушаешь, кажется, что в ней рифмуется чуть ли не каждое слово. И переводчику Александру Аванесову удалось это в некоторой степени отразить, хотя схему рифмовки удалось сохранить не везде.
Дал с ромашкою промашку
Наш аббат.
Он из требника бедняжку,
Говорят,
Уронил во время мессы
На алтарь,
Как отъявленный повеса
И бунтарь.
Сам епископ в гневе тискал,
Тряс псалтырь:
«Как попал цветок нечистый
В монастырь?
Как пробраться к нам в аббатство
Он дерзнул,
На святое наше братство
Посягнул?!»
Если, Боже, есть ты все же
Наверху,
То не верь ты в эту ложь и
Чепуху,
Мол, с монашкой за рюмашкой
Наш кюре
Обзавелся той ромашкой
На заре.
Это бредни! — он намедни
В самый пост,
Обходя перед обедней
Наш погост,
Заложил случайно требник
Тем цветком.
Вот и все. А люди треплют
Языком…
Понапрасну мутят паству,
Бьют в набат.
Верен Деве добрый пастырь —
Наш аббат.
Как же смели пустомели
Не понять:
Грех ромашку в черном деле
Обвинять!..
13. Ромашка
И в заключение нашего вечера мы послушаем еще одну очень известную песню Брассенса — «Все за одного». Она была написана для фильма Ива Робера «Друзья» и впоследствии дала название восьмому альбому. Я уже говорил, что у Брассенса много песен о мужской дружбе, но эта, пожалуй, самая яркая. Как и некоторые другие песни Брассенса, она несколько приджазована, и в ней едва ли не единственный раз в его творчестве даже есть проигрыш, где имитируется американский фольклорный инструмент казу.
К этой песне, которую я снова рискну показать в своем переводе и исполнении, тоже требуются некоторые комментарии. То есть
В первом куплете упоминается плот «Медузы». Речь тут идет о печально знаменитом крушении в 1816 году французского судна «Медуза». 149 его пассажиров пытались спастись на большом плоту. Плот был обнаружен 12 дней спустя. На нем оказалось 15 человек. Остальные погибли или были съедены выжившими.
Вот втором куплете фигурирует латинское выражение «Fluctuat nec mergitur!» с французским ударением на последнем слоге, которое означает «Качается, но не тонет» и является девизом города Парижа, в гербе которого есть изображение корабля.
В третьем куплете речь идет, я извиняюсь, о гомосексуализме. Никомед — античный персонаж, вифинский царь, который, как известно, склонил к сожительству юного Юлия Цезаря, когда тот был римским послом при его дворе. Боэси — легендарный друг великого французского философа Монтеня. Их тоже связывали, если так можно выразиться, романтические отношения.
В четвертом куплете опять латинское выражение с французским акцентом — ки про кво. Здесь оно употребляется в значении «наоборот», и вообще, признаюсь честно, что это, как и многое другое в этом переводе, отсебятина переводчика, и в оригинале его нет.
14. Les copains d’abord
* См. также альбом «Песни Ж. Брассенса и запоздалые романсы» и главу «Жорж Брассенс» тома «Переводы». — Прим. ред.